© 2024 По Полочкам
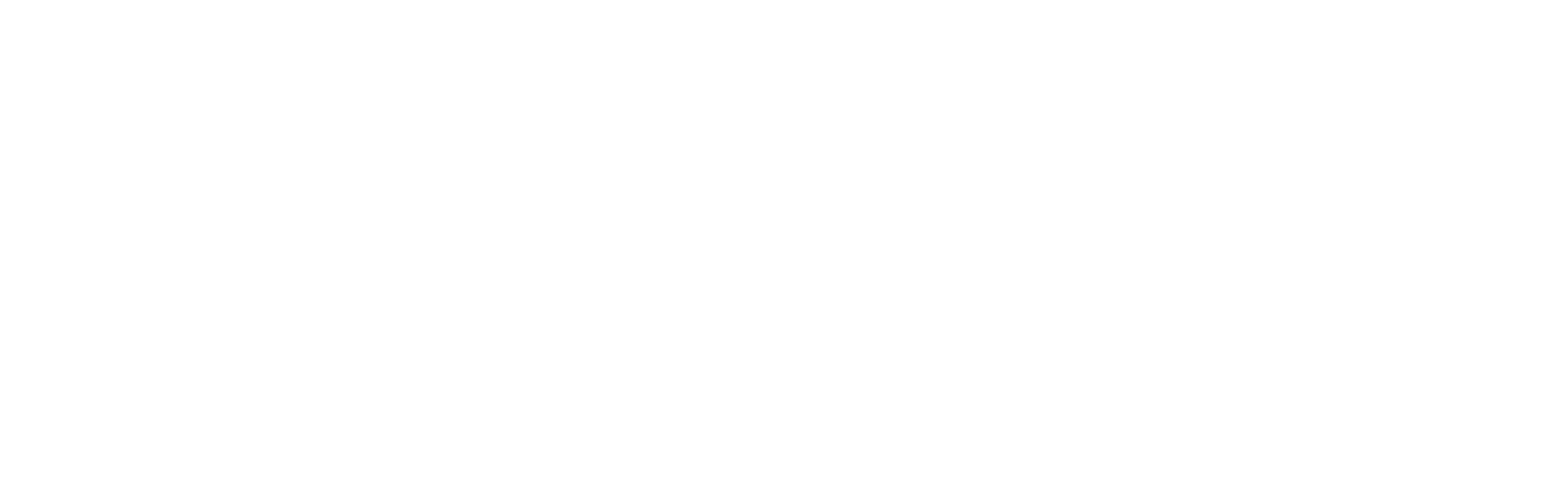
Анастасия Зудина (Jaade)
Этюд ми-бемоль минор
Этюд ми-бемоль минор
Этим утром безжалостный японский дождь задержал меня в отеле в Киото. Вместо поездки в Арасияму я сижу в лобби, без особой надежды посматривая в окно, пока на улице кто-то ежесекундно опрокидывает с неба полную кастрюлю теплой воды.
ㅤㅤㅤМой кофе уже остыл, а тамаго сандо, скучающий на тарелке, начал покрываться тонкой пленкой окисления. От нечего делать я пытаюсь оставлять заметки в блокноте и тут же понимаю, что разучился писать от руки на родном языке. По-японски — пожалуйста, но мысли никак не хотят складываться в компактные иероглифы.
ㅤㅤㅤМое кислое лицо в отражении на полированной крышке стола явно не нравится девушке за барной стойкой. Готов поставить десять тысяч йен, она думает — эти европейцы совершенно не умеют себя вести. В этом прелесть и проклятие Японии. Ты всегда будешь иностранцем, сколько бы лет тут ни прожил.
ㅤㅤㅤЗа спиной раздаются звуки фортепиано. Кто-то из постояльцев, такой же запертый дождем страдалец, сел поиграть. Незамысловатый ритм приятно касается воображения, словно вторя шелесту дождя по лепесткам цветущих гортензий и шагам спешащих мимо окна пешеходов. Музыка призывает расслабиться, остановить нескончаемый бег в попытках догнать невозможное. Я делаю глоток холодного кофе и откидываюсь на спинку дивана в ожидании, может быть, новой мелодии.
ㅤㅤㅤМузыка на секунду стихает, а затем врывается в голову ледяным дыханием метели. Я вижу, как наяву, себя четверть века назад, бегущего из стремительно катящейся в безумие страны. В драматических аккордах — гнев, решимость, горе. Проблески света от знания своей правоты. Обида на нежелающий принимать меня мир. Эмоции, которые я потом пытался написать, но получилось лишь прожить и запомнить — навсегда.
ㅤㅤㅤЧерез удушливую темноту воспоминаний прорываются первые светлые ноты. Новые страны, языки, люди. Неудачи и маленькие победы. Первая история, которую я сумел пристойно облечь в слова — посвящение любимой. И снова пропасть, темные, падающие свинцовыми слитками в голову аккорды. Болезнь. Паника. Ее смерть.
ㅤㅤㅤВсе еще придавленный заново переживаемым горем, я поворачиваюсь и вижу пианиста. Это женщина. Темно-русые волосы забраны на затылке в пучок. Европейка. Играет с закрытыми глазами, проживая свою собственную историю. Интересно, какие у нее глаза: карие, похожие на крепкий чай, или серые, как сегодняшние облака?
ㅤㅤㅤВ череде перемежающихся звуков я слышу отголоски борьбы. Сомнения. Желание сделать простой выбор и прекратить земную жизнь немедленно. Я не знаю, есть ли другая жизнь, не знал этого и раньше, поэтому на грани отчаяния я тогда сделал единственное, что умел — снова бежал, на этот раз от собственного горя, и не смог убежать. За мной тянулись следы, цепи, удушливые ремни прошлого.
ㅤㅤㅤИстеричные, почти диссонирующие аккорды достигают апогея и тут же рассыпаются каплями дождя. Не сегодняшнего проливного, а другого: легкого, звонкого, спорящего за право существовать с назойливыми лучами майского солнца. За этими звуками — мой родной город. Взлетающие ввысь белые шпили, широкие проспекты, безумные эстакады. За этими звуками — молодость и образ будущего, которому никогда не суждено сбыться.
ㅤㅤㅤОна не открывает глаз. Играет так, будто знает, что я на нее смотрю, но — прогоняю мимолетную спесь — она играет не для меня. Музыка, рождающаяся на кончиках ее пальцев, — для всех и для каждого обретает собственные смыслы. За ее спиной сидит на диване мужчина в кимоно, и как бы он ни хотел казаться невозмутимым, едва уловимые движения губ, морщинки на лбу, вся поза говорят, что и его подхватили волны воспоминаний.
ㅤㅤㅤСтаренькая Ямаха звучит недостаточно идеально. Руки пианистки в попытках преодолеть несовершенство иногда дают сбой, но ее вдохновение и самоотдача кружат мне голову. Смогу ли я когда-нибудь выразить словами то, что композитор передал в строках нот? Возможно ли, читая книгу, испытывать такую же кристально ясную глубину чувств?
ㅤㅤㅤПоследние такты звучат почти нежно. Ностальгия, надежда, смирение. Звуки стихают. Женщина еще несколько секунд сидит неподвижно. Затем закрывает крышку инструмента и поднимает глаза. Она смотрит на меня. Серые. У нее серые глаза, чуть темнее, чем я ожидал.
ㅤㅤㅤВ ее взгляде — воды большой реки. Невозможно поверить, что это она только что играла с такой страстью. Невозможно понять, сколько ей лет: тридцать, сорок, а может быть… Не знаю. Может быть, она живет на нашей планете уже вечность.
ㅤㅤㅤОна смотрит на меня и вдруг улыбается. Открыто и радостно, как старому другу. Я не выдерживаю и подхожу к ней.
ㅤㅤㅤ— Простите, — я говорю по-английски. — Простите, что это за музыка?
ㅤㅤㅤ— Это Рахманинов, этюд ми-бемоль минор.
ㅤㅤㅤ— Вы бесподобно играете. Не ожидал услышать такое…
ㅤㅤㅤ— Мое любимое, — она улыбается и протягивает руку. — Ева. Как вас зовут?
ㅤㅤㅤ— Ватару Андо, — меня разрывает между попытками поклониться и пожать ее ладонь.
ㅤㅤㅤ— Андо-сан, простите, вы писатель? Кажется, я помню фотографию, — мужчина в кимоно встает и кланяется мне. — Я читал ваш сборник коротких рассказов. Мне очень понравилось. Наверное, автор много жил в Европе, я тогда подумал. Должно быть, один из ваших родителей иностранец?
ㅤㅤㅤ— Огромное спасибо! — я почтительно кланяюсь в ответ. — Да, да, так и есть.
ㅤㅤㅤ— Вас зовут Давид, — констатирует пианистка, когда мы садимся подальше от любопытных ушей. — Да?
ㅤㅤㅤ— Откуда вы знаете?
ㅤㅤㅤКаким-то волшебным образом она угадывает мое первое имя, уже мною самим позабытое за двадцать-то лет.
ㅤㅤㅤ— Все Давиды чем-то похожи, — смеется она. — Что делаете в Киото?
ㅤㅤㅤ— Хотел съездить в Арасияму, может быть, знаете, в тот храм, где множество каменных нецкэ? Попросить себе вдохновения. Застрял тут из-за дождя.
ㅤㅤㅤ— Погода, да… Печальное утро. Впрочем, кажется, становится светлее!
ㅤㅤㅤ— И правда. Ева-сан, — с трудом удерживаюсь от перехода на японский. — Я могу спросить? Та часть в середине, похожая на дождь… О чем она для вас?
ㅤㅤㅤ— Один день летом… — она называет дату почти через год после моего отъезда. — Была такая гроза, ливень, мы с подругой бежали домой, не дождались автобуса… Знаете, я уехала из дома и не видела подругу уже очень давно, а этот день помню так ясно!
ㅤㅤㅤ— Причуды памяти, — я всматриваюсь в ее лицо и все еще не могу понять, сколько ей лет. — Выпьете чая со мной? Раз уж мы все тут застряли.
ㅤㅤㅤОна соглашается. Нам приносят чайничек сенчи и маленькие рисовые сладости в форме цветков гортензии. Улыбаюсь как ребенок. Сколько бы лет ни прошло, не перестаю удивляться и радоваться этим мелочам.
ㅤㅤㅤ— Как вы стали Ватару Андо? — Ева снимает чашки и тарелочки с угощением на телефон. — Гражданство получили?
ㅤㅤㅤ— Длинная история. Были проблемы на родине, и я сбежал, — вздыхаю в признательном поклоне. — Сначала в Южную Америку, а оттуда — через Ближний Восток — сюда. Единственная страна, где, наконец, прижился. Или просто остановился, пока не знаю.
ㅤㅤㅤ— Или спрятались?
ㅤㅤㅤВстречаюсь с ней взглядом. Зрачки в ее глазах похожи на водовороты среди глубокой реки. Я даже не знаю, кто она такая. Молоточек в голове выстукивает тревожный мотив: может быть, она агент спецслужб, которые пришли наконец за мной.
ㅤㅤㅤ— Слишком сложный вопрос, — уклоняюсь от ответа. — Приятный чай. Вам нравится?
ㅤㅤㅤ— Чай? — она делает глоток. — И правда. Контраст горечи и послевкусия не такой, как у матча, но все равно…
ㅤㅤㅤ— Чем вы занимаетесь?
ㅤㅤㅤ— Сейчас просто наслаждаюсь Киото.
ㅤㅤㅤ— Я имел в виду…
ㅤㅤㅤ— Про музыку? Я окончила консерваторию. Считалась юным дарованием, пока не сломалась в один прекрасный момент. Перегрузила руки и душу. Простите, если показалось, будто я осуждаю вас. Это зависть. Вы смогли снова найти себя и стать писателем, а я — просто трейдер на зарплате. Вот, выкроила себе недельку отпуска.
ㅤㅤㅤОна пробует рисовый цветочек гортензии, пытаясь, судя по настороженному выражению лица, уловить вкус. Наверное, ей около сорока. Оттенок ее голубого джемпера выдает японскую требовательность к цвету. Не успеваю я озвучить этот факт, как она достает из сумочки шоколад, открывая свою восточно-европейскую душу.
ㅤㅤㅤ— Это все хорошо, но хочется яркого вкуса, — она отодвигает тарелочку со сладостями. — Будете?
ㅤㅤㅤ— Давайте. Сто лет такого не ел.
ㅤㅤㅤОна щедрой рукой отламывает несколько квадратиков от огромной толстой плитки молочного шоколада. Вкус из детства. С трудом могу сейчас вспомнить каким было мое детство. Я так долго хотел, чтобы вся моя жизнь за пределами Японии была стерта, вычеркнута из пространства-времени, что заблокировал для себя эти воспоминания.
ㅤㅤㅤ— А вы по-японски пишете?
ㅤㅤㅤ— Теперь уже да, — я готов закрыть лицо руками от стыда, как делает младшая дочь. — Уже почти научился тонкому искусству полутонов. Сначала мне просто очень повезло с редактором.
ㅤㅤㅤ— Потрясающе! Я никак не могу породниться с этим языком. Уже семь лет, а все как будто новенькая в классе.
ㅤㅤㅤ— Еще все придет, — спешу ее подбодрить, мне самому понадобилось лет десять. — Если кто-то будет вас критиковать — просто сыграйте ему на пианино.
Она улыбается. Вокруг серых глаз разбегаются тонкие лучики. Да, ей в самом деле около сорока.
ㅤㅤㅤЗа окном, наконец, светлеет, дождь заканчивается, как и наш чай. Прощаюсь с Евой. Возвращаюсь на минутку в номер, чтобы взять камеру, а когда прохожу через лобби — она выбегает на улицу с чемоданом на колесиках.
ㅤㅤㅤЕхать куда-то далеко уже поздно. Иду вдоль речки по романтичной тропинке под деревьями. Пробегающие мимо мальчишки громко обсуждают по-японски мою камеру с большим объективом и смешную желтую сумку. Для них я всегда буду иностранцем.
ㅤㅤㅤЯ так и не рассказал Еве, как я стал Ватару Андо, как бился в двери издательств, но никто не хотел публиковать неизвестного иностранца с кое-как переведенными по словарю текстами. Спасла меня только Ханако, моя будущая жена и ангел-хранитель. Трудно понять, что именно она нашла в моем уныло-вежливом лице и стандартном черном костюме на приложенном к рукописи фото, но говорит, что влюбилась с первого взгляда. Она пригласила меня на ланч, и через час я тоже влюбился. До сих пор считаю ее самой смелой женщиной из всех, кого знал.
ㅤㅤㅤХанако отредактировала мою писанину, изменила место действия с Осаки на Рим — японцы любят читать о Европе — и заставила взять псевдоним. Через пять лет, меняя паспорт в консульстве, я изменил имя, а еще через три — получил японское гражданство. Несколько бюрократических шагов, и для всего мира прежний я бесследно исчез, уступив место обычному японцу по фамилии Андо. Иногда я пытаюсь понять: за годы под другими небесами и другим именем стал ли я сам другим человеком? Или остался тем же напуганным и, буду честен с собой, трусливым юношей, бегущим с одним чемоданом на другой конец света.
ㅤㅤㅤ— Добрый день! — окликает меня старичок, стоящий у перил небольшого моста. — Хотите запустить кораблик? Красиво!
ㅤㅤㅤНа перилах разложены лодочки из листьев и цветов, скреплённые зубочистками. В самом деле красиво. С почтением беру одну из его загорелых жилистых рук и отпускаю вниз. Лодочка переворачивается. Я едва не плачу с досады, а старичок лишь смеется и подает мне новую. Вторая благополучно приводняется. Волны реки уносят ее, а я быстро-быстро нажимаю спуск камеры, чтобы не упустить это мгновение красоты.
ㅤㅤㅤ— Спасибо большое! И в самом деле красиво! — кланяюсь ему, а он улыбается, довольный своей придумкой.
ㅤㅤㅤ— Пожалуйста! Откуда вы?
ㅤㅤㅤ— Италия, — бодро вру я. — Милан.
ㅤㅤㅤОн делает вид, что понимающе кивает. Благодарю его еще раз, он даже не обращает внимания, что я говорю по-японски. Японец по фамилии Андо моментально превращается в итальянца из Милана.
ㅤㅤㅤПриходит сообщение. Жена просит не забыть о сувенирах для младшей дочки. Я и о старшей не забуду, пусть она уже и не живет с нами. Дочка Ханако от первого мужа — мой лучший друг, так уж вышло, и идеальная старшая сестра. Обещаю ничего не забыть. Спрашиваю, считает ли она меня японцем. «Конечно да, почему ты беспокоишься? — приходит ответ. — Ты так давно тут живешь!»
ㅤㅤㅤУспокоила. Пишу, что люблю ее. В самом деле люблю, уже семнадцать лет. Получаю в ответ миллион поцелуев. Она считает меня японцем, а кем я сам себя считаю? У меня нет ответа. Я столько времени провел, пытаясь перестать быть предыдущим собой, что ни разу не задумался, какой он — я следующий. Единственный непреложный факт во все времена — я хотел писать, выражать словами мысли так, чтобы не оставлять других равнодушными. Не ради денег или быстрой славы, хотя такие стремления, конечно, упростили бы мой путь. Я хотел писать, чтобы мои читатели задавались вопросами. Искали ответы, сомневались в правильности — поступков героев и своих догадок. Чтобы вопросы морали и человеческих желаний иногда лишь едва касались друг друга в церемонном менуэте, а в другой раз — вступали в яростную схватку.
ㅤㅤㅤПокупаю в ларьке мороженое с кунжутом и сворачиваю, наверное, на самую туристическую улицу Киото. Здесь, среди людей, которые выглядят так же, как я, и говорят на разных языках, я словно растворяюсь в пространстве. Человеческий поток подхватывает меня, несет куда-то наверх мимо сувенирных лавок. Замечаю магазин с приятной канцелярией. Покупаю своим девчонкам всякого и начинаю дрейф обратно, в сторону гостиницы.
ㅤㅤㅤМладшая присылает фото из кафе, спрашивает, как я там. Ей тринадцать. Возраст нарастающей турбулентности. Считает себя уже очень взрослой, но все равно приходит в родительскую спальню в выходной утром. Выгоняет меня из комнаты, чтобы посекретничать с матерью, а потом требует — от меня — субботние панкейки. Такие отношения с детьми — целиком заслуга Ханако, пусть она и уверяет, что я нормальный отец.
ㅤㅤㅤВ ответ на вчерашнее фото из Золотого Павильона и вопрос, считает ли она меня японцем, дочь пишет, что я сошел с ума. Конечно, я не японец, но так же круче. И она меня любит, даже если я пингвин. Обещаю завтра утром вернуться, но, когда добираюсь до гостиницы, понимаю, что вернусь сегодня. Собираю вещи, раскланиваюсь с девочкой на ресепшн и бегу на станцию.
ㅤㅤㅤСинкансэн Нозоми идет от Киото до Нагои всего тридцать пять минут.
ㅤㅤㅤВсего за тридцать пять минут я успеваю с какой-то поразительной остротой осознать, что у меня есть собственное место в мире, что на самом деле не так уж и важно, кем меня считает сосед или официант в кафе. Я смотрю на мелькающие за окном сельские домики. Пытаюсь переварить такое очевидное и оттого еще более внезапное озарение, и совершенно не понимаю, почему оно не случилось гораздо раньше.
ㅤㅤㅤ— Я дома! — кричу от входа и едва успеваю скинуть уличную обувь, как дочь повисает на шее всем уже недетским весом.
ㅤㅤㅤ— Папа! Разве ты не говорил, что завтра?
ㅤㅤㅤ— Передумал. Решил быстрее к вам вернуться. Держи. Там тебе и сестре.
ㅤㅤㅤ— Как мило! — дочь с писком убегает к себе в комнату.
ㅤㅤㅤ— С возвращением, — Ханако целует меня в щеку. — Что с тобой такое было сегодня?
ㅤㅤㅤНа ней домашнее платье с акварельными цветами гортензии. Почти такими же, как росли у отеля в Киото. Сезон, ничего не поделаешь. Все японцы обожают сезонные вещи.
ㅤㅤㅤ— День рефлексии. Знаешь, сегодня утром в отеле одна женщина играла на пианино. И это было так проникновенно, что я вспомнил родной город, грозу, эти белые высокие здания. Помнишь, я показывал фотографии? Оказалось, она тоже оттуда.
ㅤㅤㅤ— Угу, — Ханако внимательно смотрит на меня и кивает. — Красивые, я помню. Кстати!
ㅤㅤㅤОна лезет в холодильник и достает маленькую картонную коробочку. Я кручу ее в руках, выпуклые буквы, такие странные для японской реальности, складываются в полузабытые слова. У меня в руках творожный сырок. Еще одно воспоминание из детства.
ㅤㅤㅤ— Мы нашли новый магазин! Ты знал, что у тебя на родине есть такой десерт?
ㅤㅤㅤ— Да. — Я еще раз поворачиваю коробочку в пальцах. — Конечно. Можно открыть?
ㅤㅤㅤ— Папа вредный, — кричит дочь из комнаты. — Знал и не говорил!
ㅤㅤㅤ— Отдать тебе? Забирай!
ㅤㅤㅤДочь великодушно говорит, что этот сырок — мой. Наливаю себе чай из термоса и откусываю кусочек. Тонкая хрупкая глазурь ломается, открывая путь к маслянистой сладости. На языке такой же вкус, как и сорок лет назад. Я снова как будто сижу на кухне бабушкиной квартиры и смотрю из окна на белую высотку по соседству.
ㅤㅤㅤ— Не хочешь написать роман? — спрашивает Ханако.
ㅤㅤㅤОна все так же пристально смотрит на меня через стол.
ㅤㅤㅤ— Роман? Большой? Даже не знаю. Это кто-нибудь издаст?
ㅤㅤㅤ— Напиши про родину, — неожиданно говорит она. — Про любовь, зиму, чтобы в конце наступала весна и все были счастливы. Как звали ту пианистку?
ㅤㅤㅤ— Ева.
ㅤㅤㅤ— Э-ба, — простое имя с трудом ложится на японский язык. — Нет, мне так не нравится. Назови героиню Анна, будет хорошо.
ㅤㅤㅤЯ откусываю еще. Сладость оттеняет вкус черного чая. Мое воображение уже за тысячи километров там, где падает на широкие тротуары пушистый белый снег и молодая женщина с собранными на макушке русыми волосами бежит к остановке, поеживаясь от утреннего холода. На плече у нее маленькая сумочка, в которую поместился только проездной и пара бутербродов, а в руках — папка с нотами. Она перебегает улицу перед рядами остановившихся в пробке машин. К остановке подъезжает украшенный гирляндами трамвай и увозит ее. Я выдыхаю. Спустя четверть века я готов вернуться, хотя бы мысленно, в родной город.
ㅤㅤㅤ— А что она играла? — спрашивает Ханако.
ㅤㅤㅤ— Рахманинова. Этюд ми-бемоль минор.
ㅤㅤㅤХанако включает музыку на телефоне. Метущиеся аккорды врываются в нашу маленькую кухню. Я невольно ежусь, но Ханако подходит ко мне и обнимает, а следом приходит дочь. Смотрит на молоденького пианиста в ролике, умиляется, показывает мне рисунок — пингвин с зонтиком стоит под дождем в окружении гортензий. Звуки теряют свою драматичность и в этот раз обращаются обычным летним дождем. Таким же, как начинается за окном, где с неба только что опрокидывается первая кастрюля теплой воды.
ㅤㅤㅤМой кофе уже остыл, а тамаго сандо, скучающий на тарелке, начал покрываться тонкой пленкой окисления. От нечего делать я пытаюсь оставлять заметки в блокноте и тут же понимаю, что разучился писать от руки на родном языке. По-японски — пожалуйста, но мысли никак не хотят складываться в компактные иероглифы.
ㅤㅤㅤМое кислое лицо в отражении на полированной крышке стола явно не нравится девушке за барной стойкой. Готов поставить десять тысяч йен, она думает — эти европейцы совершенно не умеют себя вести. В этом прелесть и проклятие Японии. Ты всегда будешь иностранцем, сколько бы лет тут ни прожил.
ㅤㅤㅤЗа спиной раздаются звуки фортепиано. Кто-то из постояльцев, такой же запертый дождем страдалец, сел поиграть. Незамысловатый ритм приятно касается воображения, словно вторя шелесту дождя по лепесткам цветущих гортензий и шагам спешащих мимо окна пешеходов. Музыка призывает расслабиться, остановить нескончаемый бег в попытках догнать невозможное. Я делаю глоток холодного кофе и откидываюсь на спинку дивана в ожидании, может быть, новой мелодии.
ㅤㅤㅤМузыка на секунду стихает, а затем врывается в голову ледяным дыханием метели. Я вижу, как наяву, себя четверть века назад, бегущего из стремительно катящейся в безумие страны. В драматических аккордах — гнев, решимость, горе. Проблески света от знания своей правоты. Обида на нежелающий принимать меня мир. Эмоции, которые я потом пытался написать, но получилось лишь прожить и запомнить — навсегда.
ㅤㅤㅤЧерез удушливую темноту воспоминаний прорываются первые светлые ноты. Новые страны, языки, люди. Неудачи и маленькие победы. Первая история, которую я сумел пристойно облечь в слова — посвящение любимой. И снова пропасть, темные, падающие свинцовыми слитками в голову аккорды. Болезнь. Паника. Ее смерть.
ㅤㅤㅤВсе еще придавленный заново переживаемым горем, я поворачиваюсь и вижу пианиста. Это женщина. Темно-русые волосы забраны на затылке в пучок. Европейка. Играет с закрытыми глазами, проживая свою собственную историю. Интересно, какие у нее глаза: карие, похожие на крепкий чай, или серые, как сегодняшние облака?
ㅤㅤㅤВ череде перемежающихся звуков я слышу отголоски борьбы. Сомнения. Желание сделать простой выбор и прекратить земную жизнь немедленно. Я не знаю, есть ли другая жизнь, не знал этого и раньше, поэтому на грани отчаяния я тогда сделал единственное, что умел — снова бежал, на этот раз от собственного горя, и не смог убежать. За мной тянулись следы, цепи, удушливые ремни прошлого.
ㅤㅤㅤИстеричные, почти диссонирующие аккорды достигают апогея и тут же рассыпаются каплями дождя. Не сегодняшнего проливного, а другого: легкого, звонкого, спорящего за право существовать с назойливыми лучами майского солнца. За этими звуками — мой родной город. Взлетающие ввысь белые шпили, широкие проспекты, безумные эстакады. За этими звуками — молодость и образ будущего, которому никогда не суждено сбыться.
ㅤㅤㅤОна не открывает глаз. Играет так, будто знает, что я на нее смотрю, но — прогоняю мимолетную спесь — она играет не для меня. Музыка, рождающаяся на кончиках ее пальцев, — для всех и для каждого обретает собственные смыслы. За ее спиной сидит на диване мужчина в кимоно, и как бы он ни хотел казаться невозмутимым, едва уловимые движения губ, морщинки на лбу, вся поза говорят, что и его подхватили волны воспоминаний.
ㅤㅤㅤСтаренькая Ямаха звучит недостаточно идеально. Руки пианистки в попытках преодолеть несовершенство иногда дают сбой, но ее вдохновение и самоотдача кружат мне голову. Смогу ли я когда-нибудь выразить словами то, что композитор передал в строках нот? Возможно ли, читая книгу, испытывать такую же кристально ясную глубину чувств?
ㅤㅤㅤПоследние такты звучат почти нежно. Ностальгия, надежда, смирение. Звуки стихают. Женщина еще несколько секунд сидит неподвижно. Затем закрывает крышку инструмента и поднимает глаза. Она смотрит на меня. Серые. У нее серые глаза, чуть темнее, чем я ожидал.
ㅤㅤㅤВ ее взгляде — воды большой реки. Невозможно поверить, что это она только что играла с такой страстью. Невозможно понять, сколько ей лет: тридцать, сорок, а может быть… Не знаю. Может быть, она живет на нашей планете уже вечность.
ㅤㅤㅤОна смотрит на меня и вдруг улыбается. Открыто и радостно, как старому другу. Я не выдерживаю и подхожу к ней.
ㅤㅤㅤ— Простите, — я говорю по-английски. — Простите, что это за музыка?
ㅤㅤㅤ— Это Рахманинов, этюд ми-бемоль минор.
ㅤㅤㅤ— Вы бесподобно играете. Не ожидал услышать такое…
ㅤㅤㅤ— Мое любимое, — она улыбается и протягивает руку. — Ева. Как вас зовут?
ㅤㅤㅤ— Ватару Андо, — меня разрывает между попытками поклониться и пожать ее ладонь.
ㅤㅤㅤ— Андо-сан, простите, вы писатель? Кажется, я помню фотографию, — мужчина в кимоно встает и кланяется мне. — Я читал ваш сборник коротких рассказов. Мне очень понравилось. Наверное, автор много жил в Европе, я тогда подумал. Должно быть, один из ваших родителей иностранец?
ㅤㅤㅤ— Огромное спасибо! — я почтительно кланяюсь в ответ. — Да, да, так и есть.
ㅤㅤㅤ— Вас зовут Давид, — констатирует пианистка, когда мы садимся подальше от любопытных ушей. — Да?
ㅤㅤㅤ— Откуда вы знаете?
ㅤㅤㅤКаким-то волшебным образом она угадывает мое первое имя, уже мною самим позабытое за двадцать-то лет.
ㅤㅤㅤ— Все Давиды чем-то похожи, — смеется она. — Что делаете в Киото?
ㅤㅤㅤ— Хотел съездить в Арасияму, может быть, знаете, в тот храм, где множество каменных нецкэ? Попросить себе вдохновения. Застрял тут из-за дождя.
ㅤㅤㅤ— Погода, да… Печальное утро. Впрочем, кажется, становится светлее!
ㅤㅤㅤ— И правда. Ева-сан, — с трудом удерживаюсь от перехода на японский. — Я могу спросить? Та часть в середине, похожая на дождь… О чем она для вас?
ㅤㅤㅤ— Один день летом… — она называет дату почти через год после моего отъезда. — Была такая гроза, ливень, мы с подругой бежали домой, не дождались автобуса… Знаете, я уехала из дома и не видела подругу уже очень давно, а этот день помню так ясно!
ㅤㅤㅤ— Причуды памяти, — я всматриваюсь в ее лицо и все еще не могу понять, сколько ей лет. — Выпьете чая со мной? Раз уж мы все тут застряли.
ㅤㅤㅤОна соглашается. Нам приносят чайничек сенчи и маленькие рисовые сладости в форме цветков гортензии. Улыбаюсь как ребенок. Сколько бы лет ни прошло, не перестаю удивляться и радоваться этим мелочам.
ㅤㅤㅤ— Как вы стали Ватару Андо? — Ева снимает чашки и тарелочки с угощением на телефон. — Гражданство получили?
ㅤㅤㅤ— Длинная история. Были проблемы на родине, и я сбежал, — вздыхаю в признательном поклоне. — Сначала в Южную Америку, а оттуда — через Ближний Восток — сюда. Единственная страна, где, наконец, прижился. Или просто остановился, пока не знаю.
ㅤㅤㅤ— Или спрятались?
ㅤㅤㅤВстречаюсь с ней взглядом. Зрачки в ее глазах похожи на водовороты среди глубокой реки. Я даже не знаю, кто она такая. Молоточек в голове выстукивает тревожный мотив: может быть, она агент спецслужб, которые пришли наконец за мной.
ㅤㅤㅤ— Слишком сложный вопрос, — уклоняюсь от ответа. — Приятный чай. Вам нравится?
ㅤㅤㅤ— Чай? — она делает глоток. — И правда. Контраст горечи и послевкусия не такой, как у матча, но все равно…
ㅤㅤㅤ— Чем вы занимаетесь?
ㅤㅤㅤ— Сейчас просто наслаждаюсь Киото.
ㅤㅤㅤ— Я имел в виду…
ㅤㅤㅤ— Про музыку? Я окончила консерваторию. Считалась юным дарованием, пока не сломалась в один прекрасный момент. Перегрузила руки и душу. Простите, если показалось, будто я осуждаю вас. Это зависть. Вы смогли снова найти себя и стать писателем, а я — просто трейдер на зарплате. Вот, выкроила себе недельку отпуска.
ㅤㅤㅤОна пробует рисовый цветочек гортензии, пытаясь, судя по настороженному выражению лица, уловить вкус. Наверное, ей около сорока. Оттенок ее голубого джемпера выдает японскую требовательность к цвету. Не успеваю я озвучить этот факт, как она достает из сумочки шоколад, открывая свою восточно-европейскую душу.
ㅤㅤㅤ— Это все хорошо, но хочется яркого вкуса, — она отодвигает тарелочку со сладостями. — Будете?
ㅤㅤㅤ— Давайте. Сто лет такого не ел.
ㅤㅤㅤОна щедрой рукой отламывает несколько квадратиков от огромной толстой плитки молочного шоколада. Вкус из детства. С трудом могу сейчас вспомнить каким было мое детство. Я так долго хотел, чтобы вся моя жизнь за пределами Японии была стерта, вычеркнута из пространства-времени, что заблокировал для себя эти воспоминания.
ㅤㅤㅤ— А вы по-японски пишете?
ㅤㅤㅤ— Теперь уже да, — я готов закрыть лицо руками от стыда, как делает младшая дочь. — Уже почти научился тонкому искусству полутонов. Сначала мне просто очень повезло с редактором.
ㅤㅤㅤ— Потрясающе! Я никак не могу породниться с этим языком. Уже семь лет, а все как будто новенькая в классе.
ㅤㅤㅤ— Еще все придет, — спешу ее подбодрить, мне самому понадобилось лет десять. — Если кто-то будет вас критиковать — просто сыграйте ему на пианино.
Она улыбается. Вокруг серых глаз разбегаются тонкие лучики. Да, ей в самом деле около сорока.
ㅤㅤㅤЗа окном, наконец, светлеет, дождь заканчивается, как и наш чай. Прощаюсь с Евой. Возвращаюсь на минутку в номер, чтобы взять камеру, а когда прохожу через лобби — она выбегает на улицу с чемоданом на колесиках.
ㅤㅤㅤЕхать куда-то далеко уже поздно. Иду вдоль речки по романтичной тропинке под деревьями. Пробегающие мимо мальчишки громко обсуждают по-японски мою камеру с большим объективом и смешную желтую сумку. Для них я всегда буду иностранцем.
ㅤㅤㅤЯ так и не рассказал Еве, как я стал Ватару Андо, как бился в двери издательств, но никто не хотел публиковать неизвестного иностранца с кое-как переведенными по словарю текстами. Спасла меня только Ханако, моя будущая жена и ангел-хранитель. Трудно понять, что именно она нашла в моем уныло-вежливом лице и стандартном черном костюме на приложенном к рукописи фото, но говорит, что влюбилась с первого взгляда. Она пригласила меня на ланч, и через час я тоже влюбился. До сих пор считаю ее самой смелой женщиной из всех, кого знал.
ㅤㅤㅤХанако отредактировала мою писанину, изменила место действия с Осаки на Рим — японцы любят читать о Европе — и заставила взять псевдоним. Через пять лет, меняя паспорт в консульстве, я изменил имя, а еще через три — получил японское гражданство. Несколько бюрократических шагов, и для всего мира прежний я бесследно исчез, уступив место обычному японцу по фамилии Андо. Иногда я пытаюсь понять: за годы под другими небесами и другим именем стал ли я сам другим человеком? Или остался тем же напуганным и, буду честен с собой, трусливым юношей, бегущим с одним чемоданом на другой конец света.
ㅤㅤㅤ— Добрый день! — окликает меня старичок, стоящий у перил небольшого моста. — Хотите запустить кораблик? Красиво!
ㅤㅤㅤНа перилах разложены лодочки из листьев и цветов, скреплённые зубочистками. В самом деле красиво. С почтением беру одну из его загорелых жилистых рук и отпускаю вниз. Лодочка переворачивается. Я едва не плачу с досады, а старичок лишь смеется и подает мне новую. Вторая благополучно приводняется. Волны реки уносят ее, а я быстро-быстро нажимаю спуск камеры, чтобы не упустить это мгновение красоты.
ㅤㅤㅤ— Спасибо большое! И в самом деле красиво! — кланяюсь ему, а он улыбается, довольный своей придумкой.
ㅤㅤㅤ— Пожалуйста! Откуда вы?
ㅤㅤㅤ— Италия, — бодро вру я. — Милан.
ㅤㅤㅤОн делает вид, что понимающе кивает. Благодарю его еще раз, он даже не обращает внимания, что я говорю по-японски. Японец по фамилии Андо моментально превращается в итальянца из Милана.
ㅤㅤㅤПриходит сообщение. Жена просит не забыть о сувенирах для младшей дочки. Я и о старшей не забуду, пусть она уже и не живет с нами. Дочка Ханако от первого мужа — мой лучший друг, так уж вышло, и идеальная старшая сестра. Обещаю ничего не забыть. Спрашиваю, считает ли она меня японцем. «Конечно да, почему ты беспокоишься? — приходит ответ. — Ты так давно тут живешь!»
ㅤㅤㅤУспокоила. Пишу, что люблю ее. В самом деле люблю, уже семнадцать лет. Получаю в ответ миллион поцелуев. Она считает меня японцем, а кем я сам себя считаю? У меня нет ответа. Я столько времени провел, пытаясь перестать быть предыдущим собой, что ни разу не задумался, какой он — я следующий. Единственный непреложный факт во все времена — я хотел писать, выражать словами мысли так, чтобы не оставлять других равнодушными. Не ради денег или быстрой славы, хотя такие стремления, конечно, упростили бы мой путь. Я хотел писать, чтобы мои читатели задавались вопросами. Искали ответы, сомневались в правильности — поступков героев и своих догадок. Чтобы вопросы морали и человеческих желаний иногда лишь едва касались друг друга в церемонном менуэте, а в другой раз — вступали в яростную схватку.
ㅤㅤㅤПокупаю в ларьке мороженое с кунжутом и сворачиваю, наверное, на самую туристическую улицу Киото. Здесь, среди людей, которые выглядят так же, как я, и говорят на разных языках, я словно растворяюсь в пространстве. Человеческий поток подхватывает меня, несет куда-то наверх мимо сувенирных лавок. Замечаю магазин с приятной канцелярией. Покупаю своим девчонкам всякого и начинаю дрейф обратно, в сторону гостиницы.
ㅤㅤㅤМладшая присылает фото из кафе, спрашивает, как я там. Ей тринадцать. Возраст нарастающей турбулентности. Считает себя уже очень взрослой, но все равно приходит в родительскую спальню в выходной утром. Выгоняет меня из комнаты, чтобы посекретничать с матерью, а потом требует — от меня — субботние панкейки. Такие отношения с детьми — целиком заслуга Ханако, пусть она и уверяет, что я нормальный отец.
ㅤㅤㅤВ ответ на вчерашнее фото из Золотого Павильона и вопрос, считает ли она меня японцем, дочь пишет, что я сошел с ума. Конечно, я не японец, но так же круче. И она меня любит, даже если я пингвин. Обещаю завтра утром вернуться, но, когда добираюсь до гостиницы, понимаю, что вернусь сегодня. Собираю вещи, раскланиваюсь с девочкой на ресепшн и бегу на станцию.
ㅤㅤㅤСинкансэн Нозоми идет от Киото до Нагои всего тридцать пять минут.
ㅤㅤㅤВсего за тридцать пять минут я успеваю с какой-то поразительной остротой осознать, что у меня есть собственное место в мире, что на самом деле не так уж и важно, кем меня считает сосед или официант в кафе. Я смотрю на мелькающие за окном сельские домики. Пытаюсь переварить такое очевидное и оттого еще более внезапное озарение, и совершенно не понимаю, почему оно не случилось гораздо раньше.
ㅤㅤㅤ— Я дома! — кричу от входа и едва успеваю скинуть уличную обувь, как дочь повисает на шее всем уже недетским весом.
ㅤㅤㅤ— Папа! Разве ты не говорил, что завтра?
ㅤㅤㅤ— Передумал. Решил быстрее к вам вернуться. Держи. Там тебе и сестре.
ㅤㅤㅤ— Как мило! — дочь с писком убегает к себе в комнату.
ㅤㅤㅤ— С возвращением, — Ханако целует меня в щеку. — Что с тобой такое было сегодня?
ㅤㅤㅤНа ней домашнее платье с акварельными цветами гортензии. Почти такими же, как росли у отеля в Киото. Сезон, ничего не поделаешь. Все японцы обожают сезонные вещи.
ㅤㅤㅤ— День рефлексии. Знаешь, сегодня утром в отеле одна женщина играла на пианино. И это было так проникновенно, что я вспомнил родной город, грозу, эти белые высокие здания. Помнишь, я показывал фотографии? Оказалось, она тоже оттуда.
ㅤㅤㅤ— Угу, — Ханако внимательно смотрит на меня и кивает. — Красивые, я помню. Кстати!
ㅤㅤㅤОна лезет в холодильник и достает маленькую картонную коробочку. Я кручу ее в руках, выпуклые буквы, такие странные для японской реальности, складываются в полузабытые слова. У меня в руках творожный сырок. Еще одно воспоминание из детства.
ㅤㅤㅤ— Мы нашли новый магазин! Ты знал, что у тебя на родине есть такой десерт?
ㅤㅤㅤ— Да. — Я еще раз поворачиваю коробочку в пальцах. — Конечно. Можно открыть?
ㅤㅤㅤ— Папа вредный, — кричит дочь из комнаты. — Знал и не говорил!
ㅤㅤㅤ— Отдать тебе? Забирай!
ㅤㅤㅤДочь великодушно говорит, что этот сырок — мой. Наливаю себе чай из термоса и откусываю кусочек. Тонкая хрупкая глазурь ломается, открывая путь к маслянистой сладости. На языке такой же вкус, как и сорок лет назад. Я снова как будто сижу на кухне бабушкиной квартиры и смотрю из окна на белую высотку по соседству.
ㅤㅤㅤ— Не хочешь написать роман? — спрашивает Ханако.
ㅤㅤㅤОна все так же пристально смотрит на меня через стол.
ㅤㅤㅤ— Роман? Большой? Даже не знаю. Это кто-нибудь издаст?
ㅤㅤㅤ— Напиши про родину, — неожиданно говорит она. — Про любовь, зиму, чтобы в конце наступала весна и все были счастливы. Как звали ту пианистку?
ㅤㅤㅤ— Ева.
ㅤㅤㅤ— Э-ба, — простое имя с трудом ложится на японский язык. — Нет, мне так не нравится. Назови героиню Анна, будет хорошо.
ㅤㅤㅤЯ откусываю еще. Сладость оттеняет вкус черного чая. Мое воображение уже за тысячи километров там, где падает на широкие тротуары пушистый белый снег и молодая женщина с собранными на макушке русыми волосами бежит к остановке, поеживаясь от утреннего холода. На плече у нее маленькая сумочка, в которую поместился только проездной и пара бутербродов, а в руках — папка с нотами. Она перебегает улицу перед рядами остановившихся в пробке машин. К остановке подъезжает украшенный гирляндами трамвай и увозит ее. Я выдыхаю. Спустя четверть века я готов вернуться, хотя бы мысленно, в родной город.
ㅤㅤㅤ— А что она играла? — спрашивает Ханако.
ㅤㅤㅤ— Рахманинова. Этюд ми-бемоль минор.
ㅤㅤㅤХанако включает музыку на телефоне. Метущиеся аккорды врываются в нашу маленькую кухню. Я невольно ежусь, но Ханако подходит ко мне и обнимает, а следом приходит дочь. Смотрит на молоденького пианиста в ролике, умиляется, показывает мне рисунок — пингвин с зонтиком стоит под дождем в окружении гортензий. Звуки теряют свою драматичность и в этот раз обращаются обычным летним дождем. Таким же, как начинается за окном, где с неба только что опрокидывается первая кастрюля теплой воды.
© Анастасия Зудина, По Полочкам

